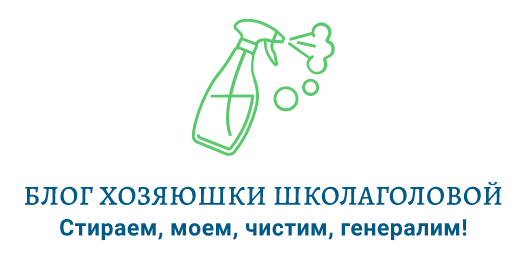Как отмыть деньги через благотворительный фонд
Андрей Бондарь
2 марта 2017 · 4,3 K
Ну начнём по порядку:
1. В России вообще не моют деньги т. к. нет смысла, ибо если ты внезапно купишь офигенно крутую квартиру или машину у налоговой не возникнет никаких вопросов. Моют деньги через них на западе. Там просто незаконный доход сложновато потратить.
2. Их используют более тонко, например для взяток или обналичивания, хотя… Читать далее
президент благотворительного фонда “Предание” (fond.predanie.ru)
1. Отмывание денег в классическом понимании (придание незаконным доходам вида законных) в России не имеет смысла, ибо органы не интересуются происхождением денег.
2. Для проведения каких-то двусмысленных операций фонд менее удобен, чем коммерческая структура, ибо ограничен Уставной деятельностью. А никаких преимуществ в смысле снижения налогов НКО в… Читать далее
Шумиха связана (как и всё в СП) с личностью Доктора Лизы.
Она была очень харизматичной женщиной. Бесстрашной… Читать дальше
Почему дорогостоящие операции для детей оплачиваются за счет благотворительности, а не государством?
президент благотворительного фонда “Предание” (fond.predanie.ru)
Причин несколько.
Подробнее я писал от этом тут:
(miloserdie.ru) – За что не платит МинЗдрав
Эти дети могут быть не гражданами России. Довольно многие благотворительные фонды собирают средства не только для россиян. Учитывая сильную деградацию медицины в бывших советских республиках – неудивительно, что их граждане едут лечиться в Россию, которая в этом смысле сохранилась куда лучше Узбекистана
Этим детям требуется помощь, которая не может быть оказана в России. По ряду направлений российская медицина отстала довольно сильно от западной. Например, абсолютно все, кто видел сборы средств в соцсетях, видели, что ведется сбор на производство трансплантации костного мозга для людей, больных онкологическими заболеваниями. Эти сборы действительно могут выглядеть необоснованными, ибо сама операция делается в России в ряде клиник по квотам, то есть бесплатно для граждан. Но бывают случаи, когда для пересадки костного мозга нет подходящего донора среди близких родственников. В этом случае требуется генетически неродственный донор. Но в России такого рода банк доноров только начал создаваться, он еще очень невелик, хотя уже действует. Такой банк есть в Германии, и поиск донора там стоит 18 тысяч евро, и государством этот поиск не оплачивается.
Бывает, что просто нет технической базы для тех или иных манипуляций. Скажем, есть такой заболевание, как буллезный эпидермолиз, существование которого в России и признано-то было совсем недавно. Разумеется, оно просто не успело войти ни в какие государственные программы финансирования, и потому необходимые людям с этим заболеванием препараты и бинты закупаются на частные деньги.
Есть ситуации, когда государственная помощь есть, но её просто недостаточно. Это, например, реабилитации детей с ДЦП и иными врожденными синдромами. Им положен определенный объем бесплатной реабилитации от государства, но он он минимален. Грубо говоря, ребенку положен 1 курс в год бесплатной реабилитации в государственном центре, где групповые занятия по общему шаблону (я утрирую, конечно), а в частной клинике будет индивидуальный подход, адаптированная под конкретного ребенка программа и так далее. Также государством введено идиотское ограничение на стоимость необходимых инвалидам ТСР, и часть качественной реабилитационной техники оказалась отрезана от тех, у кого не хватает денег.
Ну и так далее, причины обычно или в технологическом отставании, или в том, что нечто не оплачивается согласно действующим документам, или в том, что помощь нужна срочно, а очередь на бесплатное лечение подойдет неизвестно когда.
Прочитать ещё 3 ответа
Как попросить у миллионера, мецената или олигарха помощи?
Предприниматель, инвестор, финансовый эксперт и основатель портала “Реальная экономика” · financial-news24.ru
Это смотря какой помощи. Если не хватает на покупку квартиры – это один вопрос. Такой помощи никто не даст конечно, если только под залог чего-то и под проценты. А если критическая ситуация – то можно можно попробовать попросить у миллионеров через их благотворительные фонды. У нас в стране, только представьте, зарегистрировано около 9000 благотворительных фондов. Кому-то же они наверняка помогают. Сам не проверял, но думаю у большинства из них есть сайты и хотя бы электронная почта для обратной связи. Так что по сути любой может изложить письменно свою трудную ситуацию и отправить на эл. почту.
Предполагаю, что в крупных благотворительных фондах, наверняка даже есть что-то типа отдела по рассмотрению обращений нуждающихся.
Прочитать ещё 2 ответа
Источник
17 октября 2015 вышла статья Антона Носика “Мифы и легенды российской благотворительности”. Начиналась она с обвинений в адрес злоязыких сволочей, никому никогда не помогших, но наводящих тут критику на добрых людей. Как человек, занимающийся наблюдением и анализом благотворительных сборов в социальных сетях с 2010 года, замечу, что эти обвинения давно стали ритуальными и именно с них начинается ответ что диких, что системных собирателей на любую критику. Единственная цель подобных кульбитов – переключить внимание с сути критических замечаний на личность критикующего.
Не стал исключением и этот раз. Не смотря на ряд здравых идей, высказанных Антоном, в его статье есть множество передергиваний и некорректного изложения фактов. Именно об этом я и хочу поговорить в своей статье, остановившись на некоторых из мифов, якобы разоблачаемых господином Носиком.
Благотворительные фонды создаются для отмывки денег
Я не очень поняла, что имеет в виду Антон под “отмывкой денег” и на что возражает. Можно ли фонд использовать для легализации криминальных доходов? Можно, только дорого, есть способы дешевле. Можно ли обналичивать средства? Можно. Можно ли использовать для передачи каких-либо средств нужному человеку так, чтоб это не вызывало вопросов и не было заметно для публики? Опять же, можно.
Самый простой путь – создать в благотворительном фонде программу, истинной целью которой будет именно выплата гонораров супругам “нУжников”, оформить этих самых супруг как “координаторов программы” и выплачивать им зарплату. Причем жертвователи, если фонд собирает пожертвования, ничего не заметят – в отчетах Минфину все эти выплаты будут учтены в графе “реализация программ”. Так что разделить средства, реально ушедшие на цели, заявленные фондом, и на содержание “нУжников” будет невозможно.
Так же любой благотворительный фонд именно по схеме “Пожертвования на Программу” можно использовать для фактического извлечения дохода. Учитывая невнимательность жертвователей, их нежелание вникать в отчеты и документы, стремление доверять без проверки – паразитировать на добрых чувствах людей при известной смекалке можно годами.
В общем-то, именно эту схему я расписала в своем цикле “Принцип трансформатора” (ч 3). В проекте, послужившем иллюстрацией, можно говорить и о небрежных отчетах, и о введении жертвователей в заблуждение относительно дальнейшей судьбы их пожертвований.
Какие еще сомнительные схемы возможны в благотворительности? Например, можно получать недвижимость из федерального имущества без аукциона, передавать имущество нужным людям так, чтоб не отняли. Можно… В общем, много чего интересного можно делать, если у тебя есть свой благотворительный фонд.
И я искренне не понимаю, зачем человеку отрицать очевидное, если с законодательством в этой области он хорошо знаком.
Между фондами и частными собирателями помощи существует конкуренция. Фонды недовольны “партизанскими сборами”, потому что они теряют доходы
Антон Носик убедительно пишет, ссылаясь на исследования CAF, что фонды не заинтересованы в борьбе с дикими собирателями, у них итак все хорошо, рынок растет. Однако если заглянуть в исследование “Благотворительность в условиях кризиса” от 19 февраля 2015, то там можно прочитать следующее:
“..большинство руководителей НКО (69%) сосредотачивают свои усилия на привлечении средств в организацию и оптимизации расходов. .. за последние пять месяцев увеличилась доля руководителей НКО, заявляющих о приоритетности сферы экономики и финансов для своей организации.
Это является еще одним подтверждением того, что основная проблема НКО – сокращение объемов финансирования усугубляется, что заставляет руководителей НКО все больше сосредотачиваться в своей деятельности на поддержание финансовой стабильности и экономического положения организации“
В другой работе из того же источника, “Исследование частных пожертвований в России в 2014-2015 году”, откуда Антон Носик взял цифры роста количества жертвователей, строчкой ниже написано об
уменьшении объема средств, переданных на благотворительность, со 160 млрд. в 2014 рублей до 146 млрд. рублей в текущем году.
Даже если за прошедшие с момента публикации первого отчета 9 месяцев ситуация изменилась и положение НКО стабилизировалось, это произошло не само по себе, а за счет сверхусилий, предпринятых сотрудниками этих организаций. Люди, оказавшиеся перед лицом финансовой нестабильности, несущей угрозу значимым для них проектам, склонны аккумулировать все доступные ресурсы, не надеясь, что ситуация улучшиться сама по себе и заранее беспокоится о возможных конкурентах.
Ниже Антон Носик доказывает, что не все мелкие организации хотят становиться крупными, что действительно так. Далее он приводит в пример такие фонды как “Русфонд” и “Подари жизнь”, к успеху которых стремится отнюдь не каждый. Однако эти фонды
никогда не собирали в социальных сетях
, в отличие от мелких фондов и группок единомышленников, для которых именно сбор на личные реквизиты зачастую является одним из существенных источников финансирования. И вполне резонно, что для фонда “Домики для бездомных поросят” группа сбора помощи в социальной сети с названием “Помоги поросенку” – вовсе не незначительная помеха, а прямой конкурент, оттягивающий как внимание публики, так и живые деньги.
Так что Антон несколько лукавит, утверждая, что конкуренции между дикими собирателями и благотворительными фондами в социальных сетях нет.
Более того, “Помоги.орг” фонд, учредителем которого является господин Носик, так же сотрудничает с одним из самых крупных сетевых проектов по сбору помощи в социальной сети вКонтакте, “Благотворительным марафоном”. В одноименной группе состоитчуть менее 200 тысяч человек. Этот проект появился в 2012 году, в лучшие свои дни отчитывался о более чем миллионных сборах в неделю (а сколько собирал реально – то не ведомо). Все время его существования вокруг него разгорались скандалы, к некоторым довелось приложить руку и мне. Чтобы не утомлять читателя перечислением всех имен и цифр, некоторые из которых – с шестью нулями, упомяну две такие истории. Одна из них случилась во времена сбора на частные счета, и тогда собиратели умудрились
обуть на 200 тысяч долларов самого Президента Украины Виктора Януковича
, собирая параллельно, вторая же случилась в первые месяцы сотрудничества “Благотворительного Марафона” с фондом “Хелп Никита”. Проект собирал на ребенка, чье положение с точки зрения врачей было безнадежным, он умер через несколько недель после начала лечения, все собранные деньги вернулись в фонд и… И все на этом. После многочисленных вопросов кто-то из администрации Марафона рассказал жертвователям, что в нарушение договоренностей организаторы “Хелп Никита” решили оставить несколько миллионов себе, сделать ничего нельзя, вот нехорошо получилось. На данный момент сайт фонда не активен, группы в социальных сетях не обновлялись более года, однако из реестра МинЮста фонд не исключен.
Как видите, в благотворительности для жертвователя нет гарантий, что собранные им средства пойдут туда, куда он предполагал. И не важно, президент он или рядовой пользователь вКонтакта, жертвовал в фонд, переводил напрямую в клинику или же на частные счета.
Кстати, именно методы сбора, выбранные в 2012 году “Благотворительным Марафоном”, а в отдельные моменты своей виртуальной жизни он скорее напоминал секту по накалу массовой истерики и количеству вранья, приправленного эзотерикой, привели к разочарованию жертвователей как в проекте, так и в благотворительности в целом.
Благотворительные фонды берут на себя функции Государства
После закрытого семинара для социальных НКО, подготовленного Общественной Палатой и проведенного 15 октября 2015 года можно смело утверждать, что да, благотворительные фонды берут и будут брать на себя функции государства. И что именно это и есть политика государства – благотворительность вместо социальных гарантий.
Процитирую публикацию Коммерсанта:
“Вячеслав Володин [первый заместитель главы Администрации Президента] пояснил, что внимание государства к третьему сектору будет только возрастать, поскольку это один из растущих секторов экономики в мире: согласно исследованию университета Джонса Хопкинса, в 36 странах мира сектор НКО занимает объем $1,3 трлн, а в наиболее развитых странах НКО берут на себя до 40% функций государства. “Наша страна тоже готова идти по этому пути”,- сказал он.“
Антон Носик совершенно верно отмечает, что появляются новые методы лечения, и что государство никогда не будет поспевать за изменениями.
Однако есть принципиальная разница между подстраховкой общества на время, достаточное для неторопливого государства, чтоб признать валидность данного метода лечения и принятия его в программу госгарантий, и полным перекладыванием оплаты высокотехнологичного лечения на плечи благотворителей с момента “сейчас” до момента “навсегда”
. Меня удивляет, что господин Носик то ли не видит этой разницы, то ли специально о ней умалчивает.
Кроме того, доступная высокотехнологичная медицинская помощь – это увеличение не только продолжительности жизни, но и степени ее активности. Учитывая, что прогресс в обществе идет не только в медицине, физические кондиции индивида становятся не столь критичны: работать на компьютере может и инвалид. Так что люди, получающие дорогостоящее лечение, выступают не только в роли получателя некой социальной помощи, но и в роли налогоплательщиков. Более того – именно вовлечение инвалидов в производительный труд и есть как метод реабилитации, так и один из наиболее эффективных способов помощи.
Пожалуй, самое крупное вранье, которое Антон Носик допустил в своей статье, это утверждение, что в России есть законодательные препятствия для детского трупного донорства. В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. от 30.09.2015) “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации”, Статья 47, п.8 допускается изъятие органов у несовершеннолетнего с согласия его законного представителя. Причины, по которым в России нет детского трупного донорства, лежат за пределами правового поля, исправляются не законами, а просветительской работой с обществом. О каком донорстве можно говорить, если люди твердо уверены, что врачи не будут лечить их и их детей должным образом при согласии на посмертное изъятие органов? В громком скандале с гибелью таджикского мальчика Умарали чуть не первой идеей, выдвинутой его родней, была мысль что “у него изъяли органы”.
И пока это так, в мутной воде будут ловить рыбку как благотворительные фонды, собирающие пожертвования на “Программу по пересадке органов за рубежом”, так и медицинские посредники. Объем пожертвований озвучен выше, ну а дети, которые погибают из-за фактического отсутствия детского трупного донорства всего лишь издержки производства. Зачем, действительно, тратить государственные средства на развитие высокотехнологичной медицинской помощи внутри страны, если у нас есть такая хорошая благотворительность.
Заканчивается статья сравнением России с Индией – мол, даже индийские земледельцы понимают пользу благотворительности, неужели мы хуже. Хочу напомнить, что, во-первых, в России существует благотворительная организация, в которую переводят пожертвования жители той или иной местности для того, чтоб у них были хорошие дороги, детские сады и школы. Она называется “Муниципальный округ”, а пожертвования – налогами. Более того, именно местные жители выбирают людей, распоряжающихся этими деньгами. Я правильно понимаю, что теперь предлагается скидываться два раза?
Во-вторых, Индия, приведенная в пример, не является социальным государством. На практике это значит, что если вам не повезло, вы бедны, у вас родился ребенок, требующий длительного и дорогостоящего лечения для сохранения жизни и его качества – вы можете рассчитывать только и исключительно на благотворительность. Если вам не помогут более успешные члены социума – ваш малыш умрет. Либо вы, обладая достаточным доходом, можете решить “а чего его лечить, дорого, сделаю нового, а этот родится в следующей жизни более здоровым”, отказаться за ребенка от лечения лейкоза и пойти на вторую попытку. Уровень медицины, доступный бедному и богатому членам социума не сопоставим, бедный может рассчитывать только на неотложную помощь. Все остальное – либо за свой счет, либо за счет благотворителей. Когда же вы состаритесь, если ваши дети не смогут обеспечить вам уход в старости – вы пойдете побираться у ближайшего храма.
Таковы реалии общества с сильной благотворительностью и слабыми государственными гарантиями.
К счастью, в России родителям, ребенок которых родился с такими же патологиями, как у Дипака Пасвана не надо ни копить нужную сумму, ни искать благотворителей. Но это, как я понимаю, не надолго.
Когда заботой о сиротах занимаются религиозные организации – мы имеем Канаду и “сирот Дюплесси”, которые несколько десятилетий не могут добиться признания себя жертвами систематического насилия со стороны католической церкви.
Сильные горизонтальные связи, апологетом которых выступил Антон Носик, при отсутствии социальных гарантий со стороны государства фактически означают, что человек не сможет выжить вне своего семейного клана. Единицы, кои есть в любом традиционном обществе – да, они прорвутся, пробьются и войдут в легенды. Для остальных социальный лифт под названием “собрать сумку, послать родню, поехать поступать в Москву”, работавший все время существования СССР и, считай, 30 лет после, окажется закрыт навсегда. Если социальную помощь тебе будет оказывать клан – клан и будет диктовать, с кем тебе спать, за кого выходить замуж, сколько детей рожать и какого пола они должны быть, где работать и работать ли вообще, какое образование получать.
Неужели такое будущее может нравиться? Может
. Тому, кто планирует занять в этом обществе место попечителя при каком-нибудь благотворительном совете. Эти люди при подобном общественном устройстве всегда хорошо жили. Деревенский староста в посткрепостнической России, индийские деревенские старейшины, церковный совет в европейской католической глубинке… Нет, больших капиталов так не сколотишь, но стабильность будет, хватит и себе, и детям. И чем больше количество нуждающихся, чем стабильнее оно растет – тем больше нужно будет стимулировать общину собирать средства им в помощь.
Похоже, именно на это место и метят все апологеты укрепления горизонтальных связей и снижения степени участия государства в решении социальных проблем.
This entry was originally posted at https://pudgik-gratti.dreamwidth.org/1247210.html. Please comment there using OpenID.
Источник