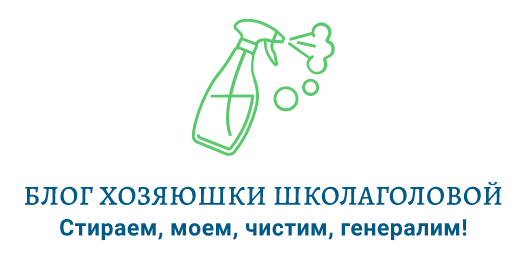Мари не может стряпать и стирать зато
или То радио. Зарубежные песни.
Начало
Московское радио вещало и пело только по-русски. Конечно, в первую очередь переводились и исполнялись агрессивные песни о борьбе рабочего класса за мир.
Сегодня в доках не дремлют французы.
На страже мира докеры стоят.
– Мы не пропустим военные грузы!
Долой войну, везите смерть назад!
Довольно пушек, довольно снарядов!
Нам нужен мир, домой пора войскам!
Торговцам смерти скажем все – не надо!
Солдаты, оставьте вольный Вьетнам!
Мы песню мира поём,
Её везде простые люди знают.
Она гремит словно гром.
Эй, берегись, кто бойню затевает!
Мы легионы труда –
На пакт войны наложим вето!
И никогда, никогда
Мы не пойдем в бой против родины Советов!
Поль Робсон, друг Советского Союза и борец за права негров, пел по-русски “Широка страна моя родная” и арию из оперы “Тихий Дон”
От крайя и до крайя,
От морья и до морья
Берет винтовку народ трудовой, народ боевой!
….
Хорошие ребята! Вырастут, настоящими людьми станут.
Очень редко передавали в его исполнении песню о Миссисипи и спиричуэлс на английском. Зато помню спиричуэл на русском.
Если хочешь в божий рай,
Ляг и умирай.
НебО, небО,
Почему мы не спешим в рай?
Сладкий пирог, виски и грог –
Все будет нам точно в срок.
Но у райской реки
Будем выть мы с тоски
На весь божий рай, на все небО,
НебО, небО!
Не хотим мы пирога,
Нам жизнь дорога!
НебО, небО,
Почему мы не спешим в рай?
Это было очень смешно.
Арии из итальянских опер тоже исполнялись по-русски.
Кле-ве-ета вначале сла-адка.
Ве-те-е-рочком
Чуть-чуть порха-ает …
Неаполитанские песни были нам особенно близки и понятны, не то, что теперь.
Это песня за два сольди, за два гроша!
С нею люди вспоминают о хорошем.
А также
Счастья своего я скрыть не в силах,
Радости исполнен в жизни я.
Все вокруг меня преобразилось,
Все поет, ликуя и звеня!
Спросите вы: “Что со мной случилось?”. –
Милая покинула меня!
Я смирюсь с потерею,
Взамен она оставила свободу, друзья!
Счастлив я, исчезли все заботы!
Счастлив я, меня пьянит свобода!
Весел я, весь день пою, друзья!
Забыты слезы, сцены, измены,
Снова свободен я!
По-русски исполнялись и фривольные французские песенки.
Мари не может стряпать и стирать,
Зато умеет петь и танцевать!
Еще Мари умеет, говорят,
Из тряпки дивный сшить себе наряд.
Любой костюм на ней хорош
Пусть всего он стоит грош
Сотню глупостей больших
Ради нее ты совершишь!
Она ошибки делат в письме,
И у нее проказы на уме …
Впрочем. автора этого перевода гневно отстегали в газете “Правда” за низкий морально-политический уровень. Заодно досталось и песне “Джонни, ты мне тоже нужен”.
Знойные латиноамериканские песни также исполнялись советскими певцами в русском переводе.
…..
Ты сказал мне: “Кукорача!”
Это значит – таракан!
За Кукорачу, за Кукорачу
Я отомщу!
Я не заплачу, я не заплачу,
Но обиды не прощу!
Я – Кукорача, я – Кукорача.
Мне не быть теперь иной.
Я – Кукорача, я – Кукорача.
Все равно ты будешь мой!
Правда, после появления аргентинского фильма “Возраст любви” стали крутить песни оттуда в исполнении Лолиты Торрес. Но редко. Гораздо чаще маститая советская певица с латиноамериканской печалью пела:
Сердцу больно.
Уходи, довольно!
Мы чужие, обо мне забудь!
Я не знала, что тебе мешала.
Что тобою избран другой в жизни путь.
Шла упорная и непримиримая борьба с буржуазным космополитизмом и низкопоклонством перед Западом. И не только на радио, в театрах и концертных залах.
Позже, когда я стал студентом, я оценил, сколько сил и средств потрачено на эту борьбу. Сколько технических справочников у учебников пришлось переиздать в срочном порядке из-за переименования технических устройств и узлов, носящих имя изобретателя.
Шайба Гровера, шпонка Вудруфа, резьба Бриггса, коробка Нортона, пружина Бельвиля, регулятор Уатта, двигатель Дизеля получили чисто русские названия: пружинная шайба, сегментная шпонка, резьба коническая дюймовая, коробка подач, тарельчатая пружина, центробежный регулятор, двигатель с воспламенением от сжатия. А еще шофёр стал водителем, а монтёр – электриком.
Старые названия было категорически запрещено упоминать в технической документации и печатных текстах. Как выжили Вольт, Ампер, Ом и Микрофарада?
И в заключение специально для френдов из США приведу песню, которая мне очень нравилась по причине истинной народности и непосредственности.
Поет Михаил Александрович.
[Читать текст…]
Посмотри-ка, приехал Чико!
Веселый Чико прибыл к нам из Порто-Рико.
Сколько блеска, сколько шика!
На селе такого парня поищи-ка.
Вот он идет, за ним толпой народ
Кто его увидит, сразу запоет:
О, Чико, Чико из Порто-Рико,
У него в петлице алая гвоздика.
Он любому кабальеро
Показать сумеет, как плясать болеро.
Если румба загремела,
Он с красоткой будет нежен, как Ромео.
Весел он всегда. Но драться с ним беда,
Он любого парня свалит без труда.
Ах, Чико, Чико, из Порто-Рико,
Вот такого ты попробуй, покoри-ка!
Но однако есть улика!
У девчонки в косах алая гвоздика.
У девчонки в волосах его гвоздика!
Источник
Песнями радовала старшая сестра Валя, активно участвовавшая в художественной самодеятельности станичного Дома культуры. Её голос многие сравнивали с голосом уже в то время популярной Людмилы Зыкиной, хотя пела Валя, в основном, казачьи песни, а также романсы.
Окрасился месяц багрянцем,
Где волны шумели у скал.
-Поедем, красотка, кататься,
Давно я тебя поджидал.
А дома с подругами пела легкомысленную популярную песенку-фокстрот:
Да, Мари всегда мила,
Всех она с ума свела.
Кинет свой весёлый взгляд –
Звёзды с ресниц её летят.
Губы нежные Мари
Цвета утренней зари.
Вы бы разве не пошли
Ради неё на край земли?
Мари не может стряпать и стирать,
Зато умеет петь и танцевать!
Ещё Мари умеет, говорят,
Из тряпок дивный сшить себе наряд.
МАЁВКИ В РОЩЕ
На маёвках, необыкновенно праздничных наших маёвках, в станичной роще за большим железнодорожным мостом, Валя пела вместе с хором или солировала:
Ты сегодня мне принес
Не букет из пышных роз,
Не тюльпаны и не лилии,
Протянул мне робко ты
Очень скромные цветы
Но они такие милые!
Ландыши, ландыши!
Светлого мая привет!
Ландыши, ландыши!
Белый букет!
Маёвки в роще, светлой от еще не распустившейся листвы, проходили всегда 2 мая. На деревянном помосте, на грузовике с открытыми бортами, возникала ладная фигура председателя сельсовета, который коротко сообщал, что Первомай – это праздник солидарности трудящихся всего мира. Станичное начальство вывозило в рощу не только художественную самодеятельность, но и продуктовый магазин: крытую брезентом машину с вином, мороженым, пряниками; детские площадки с деревянными лошадками и качелями. Гремел духовой оркестр, кое-где звучала балалайка или мандолина, кто-то прихватывал гармошку, а то и баян. Кто-нибудь умудрялся привезти под сень весенних прозрачных деревьев патефон. В шумное живое многоголосье балалаечных струн, переборов баяна вдруг вплеталось потрескивание патефонной пластинки с домашним негромким голосом Леонида Утёсова:
Я ковал тебя железными подковами,
Я пролётку чистым лаком покрывал,
Но метро сверкнул перилами дубовыми,
Сразу всех он седоков околдовал.
Ну и как же это только получается?
Всё-то в жизни перепуталось хитро:
Чтоб запрячь тебя, я утром отправляюся
От Сокольников до парка на метро.
Ну, подружка, верная,
Тпру, старушка древняя,
Стань, Маруська, в стороне!
Наши годы длинные,
Мы друзья старинные,
Ты верна, как прежде, мне.
Рядом проходит парень с перекинутым через плечо на тонком ремешке ВЭФом – маленьким транзисторным радиоприемником, и оттуда, по радио, по непонятным радиоволнам в нашу бурлящую рощу влетают чуждые звуки. Но их забивает Тамара, которая живёт далеко отсюда, на другом конце станицы. Она лихо поёт, да ещё притоптывает:
На городи верба рясна
Ну да, ну да, а!
Там стояла дивка красна,
Да- да, да-да.
Вона красна ще й вродлыва,
Ну да, ну да!
Ии доля нещаслыва,
Да-да, да-да!
А под старым берестом, на круглой зеленой поляне, сквозь которую видно синюю речку с жухлыми прошлогодними камышами, устроилась большая семья. На домашней скатерти – хлеб, разрезанный пирог, бутыли с домашним вином и самогоном, лук и соленые огурцы на тарелках; вокруг бегают и визжат ребятишки. Молодая красивая казачка, сидящая на грубом рядне, подогнув ноги под себя, отрешенно и протяжно запевает:
Стоить гора высокая,
Попид горою гай, гай, гай…
Мужские твердые голоса вместе с решительными женскими подхватывают:
Зэлэный гай, густэсэнькый
Ныначе, справди рай!
Появляются раскрасневшиеся мальчишки на велосипедах: узорчатые следы от велосипедных колес всё сильнее утрамбовывают узкие сырые дорожки.
До поздних вечерних сумерек, до последнего угасающего луча весеннего ласкового солнца гуляет здесь станица и песни то вспыхивают, то угасают, как угольки в догорающем теплом костре. До следующей маёвки будут вспоминать платнировцы этот единственный в году общественный семейный день, этот вечер.
– Хорошо грае Витька на гармошке!
– Та шо там Витька! Чулы, як спивае Утёсов? Ниякой гармошкы не надо.
– Нэ скажи, кум! Утёсов хай по радио спивае, а наша гармошка есть гармошка.
На том и расходились мирно по домам.
ПЕСНИ ОТЦА
У моего отца была неотступная мечта: научить меня игре на гармошке или на балалайке или, на худой конец, на гитаре. Гитару он считал несерьёзным инструментом. Гармошки у нас не было – очень дорогой инструмент, а гитара и балалайка откуда-то в доме появились.
– Научишься, – говорил он, – будешь ходить по свадьбам, играть и зарабатывать. Это не то, что быкам хвосты крутить. Хочешь играть?
– Хочу.
– Ну, бери балалайку.
Я брал инструмент, извлекал звуки, которые ну никак не становились музыкой.
– Что не умеешь, не получается?
– Не умею.
– Ну, ладно, – говорил отец, который тоже не умел играть.- Сходи на подвирья, дай козе кукурузыння, а то она голодная, слышишь, просит?
Я шёл во двор, выдергивал из стожка кукурузный сухой стебель с листьями позеленее и с удовольствием смотрел на козу Катьку, уплетающую этот козий деликатес. Так хотелось нарисовать её горбоносый нос и жёлтые глаза с бедовой вертикальной чертой.
Отец любил и умел петь. Зимой он вязал веники. В тёмных сенцах лежала гора заготовленных ещё в августе обрушенных от зерна длинных метёлок веничного сорго. В единственной комнате от сволока – толстой потолочной балки – спускалась вниз, к полу, а точнее, к доливке, верёвка с деревянной педалью. Веревкой обхватывается пучок метёлок, нажимаешь ногой на педаль – пучок сдавливается и тут же туго связывается шпагатом: в верхней части ручки будущего веника, в средней и в том месте, где метёлки расширяются с помощью деревянного зажима.
Над длинным столом висит подвешенная к потолку керосиновая лампа. За одним краем стола кто-нибудь из нас, детей, делает письменные уроки, другой край стола служит маме. Она готовит ужин: делает затирку из серой муки и режет буряк – сахарную свёклу: из неё будет компот. Пить его мы будем завтра после того, как он настоится. Завтра же мама приготовит икру из остывших ломтей свёклы: порежет её соломкой, пересыплет сухарными крошками и поджарит на подсолнечном масле: объедение!
Отец за работой никогда не молчал: если не рассказывал о своих делах, не подтрунивал над нашими детскими поступками, то напевал:
Эх, дорожка, фронтовая,
Не страшна нам бомбёжка любая.
А помирать нам рановато –
Есть у нас ещё дома дела.
-Пап, какая же у вас там была дорожка, – удивлялся я. – У вас же дорога, железная дорога!
– Но она ж фронтовая, сынок! – отвечал отец – Под бомбёжки попадали, но доставляли и грузы, и личный состав.
С особым удовольствием не просто пел, а декламировал куплет:
Может быть отдельным штатским лицам
Эта песня малость невдомёк.
Мы ж не позабудем,
Где мы жить ни будем
Фронтовых изъезженных дорог.
Эх, путь-дорожка, фронтовая…
И, конечно, любил всё казачье, родное, которое грело простыми словами. Из “Песни о тачанке” он помнил только припев, но в этот припев вкладывал всю душу:
Эх, тачанка-ростовчанка,
Наша гордость и краса,
Конармейская тачанка –
Все четыре колеса!
Праздники, а точнее – празднование праздников – было связано больше с личной жизнью каждого, чем с жизнью государства.
Я родился в марте, а родичи собирались у нас в доме, чтобы оказать мне какое-то внимание, в декабре. На день зимнего Николая-чудотворца. Праздновали именины, а не день рождения.
Помню, как мама, готовясь к такому празднику, повела меня на соседнюю улицу к модистке. Красивая и душистая тётя обмерила мне “метром” живот, шею, ещё что-то, наговорила много всяких слов моей маме и через неделю я был в новой рубашке, в которой чувствовал себя как рыба в станичном каюке: и празднично, и неудобно.
Стол был по-декабрьски скромным: голубцы из капустных листьев с пшеном, квашенная кислая капуста, заправленная луком и душистым подсолнечным маслом, всё тот же компот из буряка, не черствеющий хлеб, извлечённыё из большой макитры. Отец вместе с соседом дядей Ваней пробовали голос:
Ой, на ой на гори, та й жинци жнуть,
Ой, на ой на гори, та й жинци жнуть.
После лёгкого вздоха, после короткой паузы в песню вплеталось женское многоголосие и, казалось, от неудержимого ликования, от еле сдерживаемой радости стёкла в окнах начинали звенеть.
А по пид горою яром-долыною
Козакы йдуть.
Гей, долыною, гей, широкою козакы йдуть.
Сдержанный, рокочущий мужской задумчивый дуэт возвращает поющих из праздничного поднебесья в простые военные будни:
По пе, попереду Дорошенко,
По пе, попереду Дорошенко…
И опять высоко в небеса взлетают громкие мужские и женские голоса:
Вэдэ свое вийско,
Вийско запоризьскэ хорошенько!
Гей, долыною, гей,
Широкою хорошенько!
Особенно нравились даже женской части компании финальные слова песни-баллады. Женщины обычно старались придать им шутливый оттенок в отличие от мужчин:
Мини, мини с жинкой нэ возыться,
Мини, мини с жинкой нэ возыться.
А тютюн та люлька
Козаку в дорози прыгодыться.
Гей, долыною, гей,
Широкою прыгодыться…
Через неделю, а может через месяц, ранней весной я побывал на очередной станичной казачьей свадьбе, где на широком дворе играли и на гармошке, и на балалайке, и на цымбалах, но главным был бубен. Жалостливые тягучие свадебные песни меня не трогали. Привлёк цимбалист с цимбалами. Дождавшись, когда гости уйдут через низкую дверь в хату, унося с собой гыльца – веточки вишни с запеченными на них ленточками румяного теста – я добирался до цимбалиста, просил его сыграть и с замиранием сердца наблюдал, как он, ударяя по горизонтально натянутым струнам, извлекал знакомые мелодии. Звуки, простые и спокойные – меня очаровывали. Позже, взрослея, я думал, что такие звуки должны быть и в звуках гуслей, которых я никогда не видел и не слышал.
РАДИОПЕРЕДАЧА “ЗАПОМНИТЕ ПЕСНЮ”
Радио появилось в станице раньше, чем электричество. Репродукторы – большая черная “шляпа”, или “тарелка” цеплялась на забитый в саманную стену гвоздь в самом почётном – после иконы – месте, рядом с наклонно расположенным небольшим зеркалом. Звук можно было уменьшить или увеличить, или даже совсем выключить.
Поначалу говорящая и играющая музыку “шляпа” была в диковинку: пользы то никакой!
– Выключи оту симфонию чи оперу, – раздражалась мама. – Побалакать нэ дае.
Но постепенно радио становилось чем-то домашним.
– Маруся, чи ты слухала постановку “Запорожець за Дунаем”? – спрашивала дородная красивая моя родная тётка – тётя Фрося.
– Ото б я слухала! – в сердцах бросала мама. – Дилать мини бильше ничого!
– Ты не помнишь Опанаса, що биля Днистра в Дзигивки жив – не обращала внимания на деланное мамино раздражение тётя Фрося и живописно пересказывала сюжет первой части радиоспектакля. – Гарный був чоловик, як отой запорожець!
Днистро, Дзиговка, Ямполь, Винница, ненько Украина – эти слова я часто слышал от моих тёток, дяди, от мамы, таких разных по характеру, но таких одинаковых по воспоминаниям о родине, которую они покинули в трудные, голодные тридцатые годы, чтобы навсегда осесть на Кубани и здесь дать жизнь мне, моим братьям и сёстрам, которые, разлетевшись из родного родительского гнезда, разные по характеру, но одинаково страдали бы по тихой речке Кирпили, по Платнировке, Кореновке, Краснодару, по всей пресветлой Кубани…
Источник
Ê îêòÿáðüñêèì è ïåðâîìàéñêèì ïðàçäíèêàì ãîðîä íàðÿæàëñÿ. Âñþäó âûâåøèâàëèñü êðàñíûå ôëàãè è ïîðòðåòû ðóêîâîäèòåëåé ïàðòèè è ïðàâèòåëüñòâà. Ñîîðóæàëàñü òðèáóíà, ãäå ðàçìåñòÿòñÿ ÷åëîâåê äâàäöàòü èç îáêîìà, ãîðêîìà, èñïîëêîìà, îäèí ïðåäñòàâèòåëü ðàáî÷èõ è îäíà êîëõîçíèöà.
È ñ ýòîé òðèáóíû, îáòÿíóòîé êðàñíîé ìàòåðèåé è îáâåøàííîé ïîðòðåòàìè âîæäåé, íà÷àëüíèêè áóäóò êðè÷àòü â ìèêðîôîí ïðèâåòñòâèÿ ïðîõîäÿùèì êîëîííàì òðóäÿùèõñÿ, ñòóäåíòîâ, øêîëüíèêîâ, è ñëàâèòü òîâàðèùà Ñòàëèíà. À êîëîííû áóäóò îòâå÷àòü â ðàçíîáîé è âî âñþ ãëîòêó «Óð-ðà!»
Ëþäè ñîáèðàþòñÿ çà ÷àñ-ïîëòîðà äî íà÷àëà äåìîíñòðàöèè îêîëî ñâîèõ ïðåäïðèÿòèé. Åù¸ íå áûëî ïîñòðîåíèÿ â êîëîííû, à óæå çâó÷àò íà ðàçíûõ óëèöàõ äóõîâûå îðêåñòðû è áàðàáàííûå çâóêè íàïîëíÿþò ãîðîä ïðàçäíè÷íûì âåñåëüåì. Îêîëî îðêåñòðîâ ñîáèðàþòñÿ ëþáèòåëè ïîòàíöåâàòü èëè ñïåòü ñâîþ ëþáèìóþ ïåñíþ. Îðêåñòð íå îòêàçûâàåò è â ñîïðîâîæäåíèè âñ¸ òîãî æå îãðîìíîãî áàðàáàíà, çàäàþùåãî ðèòì, íà÷èíàåò èãðàòü:
Äà, Ìàðè âñåãäà ìèëà,
Âñåõ îíà ñ óìà ñâåëà.
Æåíùèíû ïàðàìè çàäîðíî òàíöóþò, óëûáàþòñÿ è ïîääðàçíèâàþò ìóæ÷èí.
Ìàðè íå ìîæåò ñòðÿïàòü è ñòèðàòü,
Çàòî óìååò ïåòü è òàíöåâàòü.
Åù¸ Ìàðè óìååò, ãîâîðÿò,
Èç òðÿïîê äèâíûé ñøèòü ñåáå íàðÿä.
 ýòî æå ñàìîå âðåìÿ íà äðóãîé óëèöå è äðóãîé îðêåñòð èãðàåò «âðàãó íå ñäà¸òñÿ íàø ãîðäûé Âàðÿã » À åù¸ îòêóäà-òî äîíîñèòñÿ «â áîé ðîêîâîé ìû âñòóïèëè ñ âðàãàìè » èëè «âåñü ìèð íàñèëüÿ ìû ðàçðóøèì »
Ìóæ÷èíû óåäèíÿþòñÿ ìàëåíüêèìè ãðóïïêàìè, äîñòàþò èç-çà ïàçóõè îãíåííóþ âîäó è, ñî ñëîâàìè «Ñ ïðàçäíè÷êîì!» èëè ïðîñòî «Íó, áóäåì!» âûäûõàþò èç ñåáÿ ïîñëåäíèé âîçäóõ è çàïðàâëÿþò ñâîè îðãàíèçìû ïðàçäíè÷íûì îïòèìèçìîì.
Äåòè ñ ðàçíîöâåòíûìè øàðèêàìè è ìàëåíüêèìè ôëàæêàìè áåãàþò ñðåäè âçðîñëûõ, ñìåþòñÿ, äðàçíÿòñÿ è ïðÿ÷óòñÿ çà ñïèíû ðîäèòåëåé.
Íî âîò ïîñëå ãðîìêèõ êîìàíä îòâåòñòâåííîãî çà äåìîíñòðàöèþ, ëþäè, òîëêàÿñü è ïåðåõîäÿ ñ ìåñòà íà ìåñòî, íàêîíåö-òî, âûñòðàèâàþòñÿ â êîëîííó è íàïðàâëÿþòñÿ ê öåíòðó, â ñòîðîíó òðèáóíû, ÷òîáû ïðîêðè÷àòü ìíîãîêðàòíî «óðà» è óæå ÷åðåç êâàðòàë ïîñëå òðèáóíû ðàçáðåñòèñü. Ðàçáðåñòèñü êòî êóäà. È òîëüêî òå, êòî íåñ¸ò ïîðòðåòû ëþáèìûõ âîæäåé è êðàñíûå çíàì¸íà, îáÿçàíû âåðíóòüñÿ ê ñâîèì ïðîõîäíûì. Ïîðòðåòû âîæäåé è çíàì¸íà ïðîñòî òàê è ãäå-íèáóäü íå îñòàâèøü, è òåì áîëåå íå áðîñèøü! Òîëüêî çà ïðîõîäíîé, òîëüêî íà ñâîåé òåððèòîðèè.
Âñïîìèíàÿ òå, óøåäøèå â ïðîøëîå äåìîíñòðàöèè, ÿ ïîéìàë ñåáÿ íà ìûñëè, ÷òî íå çíàþ íè îäíîé ïðàçäíè÷íîé è, ÷òî åù¸ èíòåðåñíåå, íè îäíîé ðåâîëþöèîííîé ïåñíè. Äàæå ñëîâ Èíòåðíàöèîíàëà íå çíàþ, à òàê, âñåãî äâå-òðè èëè ÷åòûðå ñòðî÷êè.
È ÿ ðàçûñêèâàþ çíàìåíèòûé òåêñò Ýæåíà Ïîòüå, âñå øåñòü êóïëåòîâ, êîòîðûå èìåþò ìíîæåñòâî ïåðåâîäîâ ïî÷òè íà ñòî ÿçûêîâ. Íàõîæó òàêæå èíôîðìàöèþ, ÷òî ðàíüøå Èíòåðíàöèîíàë ïåëè íà ìîòèâ Ìàðñåëåçû, è òîëüêî ÷åðåç ñåìíàäöàòü ëåò Ïüåð Äåãåéòåð íàïèñàë ìóçûêó, êîòîðóþ çíàþò âî âñ¸ì ìèðå.
Èíòåðíàöèîíàë áûë ãèìíîì ÑÑÑÐ äî 1944 ãîäà. À îôèöèàëüíûì òåêñòîì – òðè êóïëåòà â ïåðåâîäå À.ß.Êîöà (1924 ã.).
Íî, âîò – îêàçûâàåòñÿ, ÷òî åù¸ äî Êîöà áûë äðóãîé ïåðåâîä, ñäåëàííûé Çàðíèöûíûì â 1922 ãîäó. Ýòîò òåêñò ïîêàçàëñÿ ìíå î÷åíü èíòåðåñíûì:
Íàñ äàâèò âëàñòü, è ëãóò çàêîíû,
Íàëîã íàâèñ íàä áåäíîòîé,
Áîãà÷ ñãðåáàåò ìèëëèîíû,
Ïðàâà ðàáî÷èõ çâóê ïóñòîé.
È åù¸ îäèí êóïëåò
È ïóñòü ïîñìåþò ïàòðèîòû
 íàñ ïûë ðàçæå÷ü äëÿ èõ àòàê, –
Ìû ñðàçó íàøè ïóëåì¸òû
Íàïðàâèì â ñîáñòâåííûõ âîÿê.
Ïåðåâîä ýòîò áûë íàïå÷àòàí â ñáîðíèêå «Ñïóòíèê ôèëàòåëèñòà è áîíèñòà» òèðàæîì âñåãî 2000 ýêçåìïëÿðîâ.
Источник